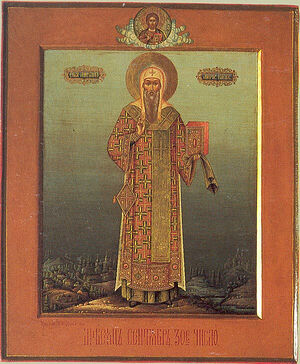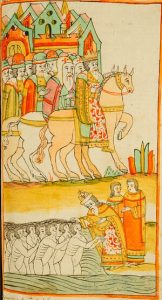
Эпоха начала христианства на Руси – бесспорный водораздел жизни нашего Отечества, то самое время, когда, по сути, началась наша история. То, что было до – славянское языческое прошлое, то, что стало после – русское православное настоящее. Именно тогда, во второй половине X века, из полян и древлян, кривичей и вятичей, славян и варягов рождалось на свет новое Древнерусское государство, связанное уже не политикой, не силой, корыстью и страхом, а верой – и верой истинной.
Все, что нам дорого сейчас, что мы зовем родным и русским, – все это или рождено христианством, или претворено им самым глубоким образом. Русские дома невозможны без красного угла, русская косоворотка придумана ради нательного креста, русская кухня своим богатством обязана «пестрости» (чередованию постного со скоромным) православного календаря, русский город или село уж сами не свои без силуэта православной церкви… Нам зачастую гораздо проще, чем представителям многих других народов, прийти к Богу, – даже теперь, после эпохи советского безбожия, – потому что дорога в православный храм проторена многим множеством поколений наших кровных предков.
Все, что нам дорого сейчас, что мы зовем родным и русским, – все это или рождено христианством, или претворено им самым глубоким образом
Но чтобы все это счастье теперь у нас было, сотни лет назад нашим праотцам нужно было совершить гораздо более трудный шаг. Они не могли опираться на силу обычая, их не согревали воспоминания о верующих бабушках и дедах, они не возвращались в храм, а впервые шли – в неизвестность. Им нужно было как раз оставить не только свои личные слабости и страсти, но и очень многие обычаи предков, осознать, что Бог, к Которому их зовут, – не чужой, не греческий, а и их собственный любящий Отец. Им нужно было выбрать между своим мирком, до боли близким и дорогим – и Истиной. Они смогли выбрать Истину.
Процесс этого преображения целой страны был, конечно, нелегким и отнюдь не мгновенным; и, безусловно, главным действующим лицом здесь стал святой равноапостольный князь Владимир Святославич; это он выбрал Православие и для себя, и для своего государства, это он смог провести в жизнь такую эпохальную реформу всего существования целого народа, притом еще довольно разрозненного на племена, причем провести так, что Русь после него не накрыла полноценная языческая реакция, как это обыкновенно бывало в истории. И потому князь Владимир Красное Солнышко пользуется заслуженной любовью в своей стране вот уже тысячу лет; его самого и его деяния знают все жители России. Но вот что удивительно – при этом едва ли найдется сколько-нибудь много тех, кто хоть что-то знает о том, кто непосредственно крестил «руссов» в те далекие времена, кто освящал первые русские храмы, кто был первым пастырем всея Руси. Более того, мы не можем даже быть вполне уверены, что до нас дошли верные сведения о нем и даже его имя. Над этим вопросом – кто же был первым Киевским митрополитом – ученые спорят до сих пор. Впрочем, церковное сознание уверенно хранит предание о первом нашем владыке, и на каждом всенощном бдении во время литии возглашается имя святителя Михаила, первого митрополита Киевского. Впрочем, здесь возможна оговорка – этот титул не обязательно значит, что святитель Михаил был владыкой при святом равноапостольном князе Владимире, это могло быть и раньше, во время так называемого Фотиева крещения Руси.
Процесс преображения целой страны был, конечно, нелегким и отнюдь не мгновенным
Вот что пишет св. патриарх Константинопольский Фотий в своем Окружном послании, написанном в 867 году, то есть за 120 лет до крещения св. князя Владимира:
«Даже для многих многократно знаменитый и всех оставляющий позади в свирепости и кровопролитии, тот самый так называемый народ Рос […], и они переменили языческую и безбожную веру, в которой пребывали прежде, на чистую и неподдельную веру христиан, […] приняли у себя епископа и пастыря и с великим усердием и старанием встречают у себя христианские обряды»[1].
По всей видимости, речь идет здесь о крещении киевлян по инициативе их тогдашних князей – знаменитых Аскольда и Дира, которые, по-видимому, сами, придя «повоевать» Византию, чудом Божиим обратились ко Христу. В другом византийском источнике (авторства императора Константина Порфирородного) записан даже живой эпизод тех дней: новоприбывшего на Русь православного архипастыря позвали на беседу знатные русы и стали спрашивать, чему же он хочет научить их. Владыка открыл Евангелие и стал рассказывать им о Господе Иисусе Христе, Его жизни на земле, учении и чудесах, упоминал и о том, что Бог творил великого во времена Ветхого Завета. Русы, выслушав его, ответили:
«Если и мы не увидим чего-либо подобного, особенно подобного тому, что, по словам твоим, случилось с тремя отроками в пещи, мы не хотим верить»[2].
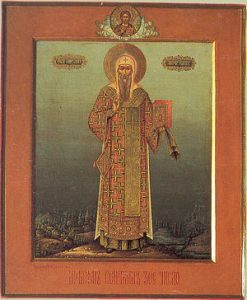
В чем-то их, этих вельмож, вполне можно понять: им рассказывают о событиях, которые были давно-давно, самое малое – за тысячу лет до них; это так же далеко, как сегодня для нас они сами, те древние русы… Это было или не было – все равно, ведь сейчас все другое, сейчас понятная современность, и в ней тем чудесам места нет. Зачем нам это?
Но епископ из далекой Византии знал то, чего не знали его слушатели: что Христос вчера и днесь и во веки Тот же. Что все это, и чудеса внешние, и чудо изменения сердца человеческого – не про полулегендарное прошлое, а всегда про нас, живущих. Он понимал, что русы просят невозможного, но он беззаветно верил в Того, Кого проповедовал. И он ответил:
«Хотя и не должно искушать Господа, однако, если вы искренно решили обратиться к Нему, просите, чего желаете, и Он все исполнит по вашей вере, как мы ни ничтожны перед Его величием»[3].
Русы попросили: пусть будет разведен большой костер, а в него положат то самое Евангелие, что епископ держит в руках. Если Книга не сгорит, то они крестятся. Епископ согласился. Развели костер; владыка, воздев руки, воскликнул:
«Господи, Иисусе Христе, Боже наш! Прослави и ныне святое Имя Твое пред очию сего народа!»[4] – и вверг Евангелие в огонь.
Прошло несколько часов. Пламя сожгло все, что было в костре, и наконец потухло; а на пепле осталось лежать совершенно невредимое Евангелие. Целы оказались даже ленты, которыми оно застегивалось. Потрясенные русы выполнили обещание – и тотчас приняли крещение.
«Кормчая книга» и некоторые другие источники называют этого владыку Михаилом, и ряд исследователей считает, что это, может быть, и есть тот самый первый Киевский архипастырь[5].
Однако наиболее распространенной, хотя и не во всем исторически идеальной, является другая версия, ставшая традиционным житием святителя и относящая время его жизни к эпохе св. князя Владимира Святославича; сложность состоит в том, что имя святителя Михаила как епископа при крестителе Руси отсутствует в древнейших источниках и появляется только в текстах XV века. Но, поскольку версия эта не отвергнута вполне историками и, кроме того, воспринята церковным сознанием и нашла отражение в богослужебных текстах (см. канон свт. Михаилу, первому митрополиту Киевскому), рассмотрим ее.
Свт. Михаил приехал на Русь из Византии вместе с царевной Анной в Херсонес, где их ждал князь Владимир Святославич
«Летописец русских царей» и некоторые другие памятники, а вслед за ними – и житие свт. Михаила, написанное свт. Димитрием Ростовским[6], говорят, что он приехал на Русь из Византии вместе с царевной Анной в Херсонес, где их ждал князь Владимир Святославич; князь, как мы знаем, оказал Византии большую военную помощь в обмен на руку византийской царевны, но императоры (их в тот момент было два брата) не спешили отдавать свою порфирородную сестру за «варварского» князя. И оскорбленный Владимир Святославич захватил византийскую колонию Херсонес, чтобы уже в обмен на нее потребовать обещанную невесту. Анна, еще молодая девушка, была вынуждена ехать в чужую страну замуж за человека, которого мы знаем уже как равноапостольного, а она знала еще как жестокого язычника. Вместе с ней навсегда вдаль от родины, но во имя Христово и отправился святитель Михаил. Он крестил князя Владимира в Херсонесе, он наставил его в вере, он вместе с князем и царевной Анной отправился в Киев и крестил детей Владимира Святославича, а после деятельно принялся за дела благовестия во вверенной ему стране. Именно он возглавил то самое крещение киевлян в водах Днепра, по его благословению князь Владимир строит первые храмы – в частности, знаменитую Десятинную церковь, «церковь соборную святыя Богородицы, иже зовется Десятинная»[7], крестил народ, сокрушал идолов, ездил в Новгород и Ростов, просвещая вверенный ему народ. Всего четыре года отвел ему Господь на это служение (в 992 году святитель скончался), но он очень многое успел за такое короткое время. Погребли свт. Михаила в Десятинной церкви, тогда еще неоконченной, а позже мощи его были перенесены в Киево-Печерский монастырь.
Вот практически и все, что мы можем сказать о человеке, который первым встал у кормила нашей Церкви. Хочется, конечно, сказать: как жаль, что так мало! Да, очень жаль… Но, впрочем, мы знаем достоверно главное: он, не жалея себя, сеял семя веры Христовой в еще не удобренную, дикую почву русской земли; и дело его дало плод, который едва ли можно не только описать, но даже вполне представить. И ныне, у престола Божия, верим, он молится за Русскую православную землю и бесчисленно умножившихся чад своих.
[1] Цит. по: Карташев А.В. Очерки по истории Русской Церкви. М., 1993. С. 75.
[2] Макарий (Булгаков), митр. История Русской Церкви. Кн. 1. М., 1994. С. 197–198.
[3] Там же.
[4] Там же.
[5] См., напр.: Петрушко В.И. Очерки по истории Русской Церкви с древнейших времен до середины XV века: Учебное пособие. М.: Изд-во ПСТГУ, 2022. – 512 с.
[6] См.: Димитрий Ростовский, свт. Память святаго Михаила, митрополита Киевскаго и всея России чудотворца // Жития святых, на русском языке изложенные по руководству Четьих-Миней св. Димитрия Ростовского. Кн. 1. М., 1903.
[7] Цит. по: Золотникова И.В., Флоря Б. Н., Михаил, свт., митр. Киевский // Православная энциклопедия [Электронный ресурс]. URL: https://www/pravenc.ru/text/2563462.html (дата обращения: 09.10.2025).
Православие.ру